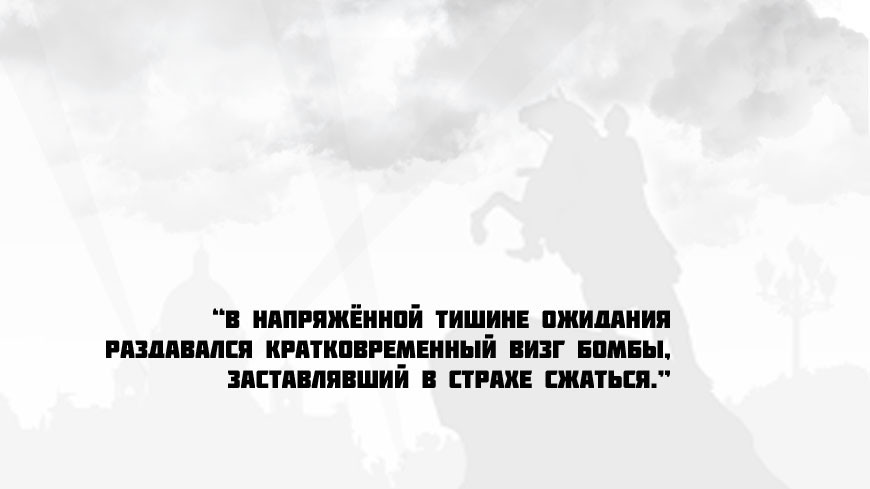Вспоминает Владимир Ганушкин, Юбилейный.
Родился в Ленинграде 18 января 1934 года. В детстве звали Вовочка, Вова. Помню себя с 3-4 лет жизни.
Наша семья: отец - Ганушкин Алексей Николаевич, мать - Ганушкина, в девичестве Гуркова Мария Васильевна, сестра Людмила, 1937 г.р., я и сестра отца Наталья Николаевна – все перед войной жили в 30 км от Ленинграда, около ст. Дудергоф по дороге на Гатчину. Это живописное место за станцией Красное Село, которое теперь находится в черте города. Здесь с одной стороны - Воронья гора, с которой хорошо просматривался в бинокль Ленинград и его южные окрестности, с другой – широкое озеро, на берегу которого располагались военные лагеря.
За овладение Вороньей горой были упорные бои, и в том числе, думаю, в гражданскую войну, так как мы, пацаны, находили в полях свинцовые пули. После войны от всех домов близлежащих деревень ничего не осталось. Помню, отец работал плотником на строительстве лыжной базы. Я иногда в конце рабочего дня ходил к нему на стройку с санками, он загружал их щепками, сажал меня сверху и катил до дома. Он всегда очень много работал, и такие моменты мне памятны и дороги. В начале финской войны его призвали на фронт, где он сильно застудил желудок, стал инвалидом и оказался непригодным к участию в ВОВ.
В суровую зиму 1939-40 годов, когда отец был на фронте, я заболел скарлатиной и лежал в ленинградской больнице. Помню, ночами потолок и стены комнаты, в которой мы, больные дети, лежали, озарялись всполохами света и слышались приглушённые громовые раскаты. Было боязно, и нас медсестра успокаивала, как могла. Таким было моё первое, дальнее знакомство с явлениями артиллерийской стрельбы и боевых взрывов. В конце августа 1941 года мы переехали в Ленинград в комнату умершего двумя годами раньше деда (отца матери). Эта комната площадью 20 кв. метров располагалась на третьем этаже дома 47 по пр. Карла Маркса на Выборгской стороне. В ней жила бабушка с детьми: выпускник вуза Михаил (24 года), студентка института Евдокия (26 лет) и учащаяся ПТУ Антонина (17 лет).
Въехавшая в комнату наша семья увеличилась на одного человека - девочку Тоню, а общее количество людей в ней оказалось 10.
Дело было в том, что летом перед войной в нашей семье появилась мать отца (моя вторая бабушка, 65 лет) с внучкой Тоней (14 лет) - дочерью старшего сына Ивана. Они приехали к нам на побывку из города Апатиты Мурманской области и задержались. А там остался дед со старшим сыном, невесткой и внуком, будучи раскулаченным в 1929 году и сосланным со всей семьёй на северные стройки страны.
Мой отец избежал этой участи, чуть раньше женившись и уехав с мамой в Ленинград к её родственникам. Конечно, мои родители долго и трудно поскитались, прежде чем осели под Дудергофом. При этом они, к несчастью, до моего рождения потеряли двух сыновей.
Когда в августе мы уезжали в Ленинград, бабушка отказалась следовать с нами и, таким образом, оказалась в оккупации. Она видела, как снарядом был разрушен наш дом, скиталась по соседям, была угнана в Германию, но благодаря своему богатому жизненному опыту, выносливости и терпению осталась жива и, будучи неграмотной, после войны добралась до нашей ленинградской квартиры. Итак, в начале блокады в нашей большой комнате с двумя окнами оказались две семьи общей численностью 10 человек.
Сначала, пока ещё не было кризиса с продовольствием, все питались вместе. Двое получили рабочие продовольственные карточки: дядя Миша работал на оборонном предприятии, тётя Наташа - на швейной фабрике. Остальные жильцы были иждивенцами: пенсионерка, студентки, больные, дети. Позже Наталья Николаевна ушла и жила поблизости к фабрике. Я поступил в 1-й класс 105-й школы, но, когда начались бомбёжки, занятия прекратились.
Недалеко от нашего дома находились военные казармы и завод «Красная Заря», производивший военную продукцию. Они, надо полагать, были важными мишенями для немцев. Осенью первая же взорвавшаяся поблизости бомба попала в деревянный двухэтажный дом, стоявший слева напротив нашего. В это время моя мама оказалась у входа в булочную, находившуюся на первом этаже, была ранена осколком бомбы в предплечье правой руки, став инвалидом на всю оставшуюся 15-летнюю жизнь: кисть руки была согнута, пальцы шевелились плохо. Некоторые стёкла окон комнаты были выбиты и заменены фанерой. В развалины дома я потом ходил за водой.
Взрыв другой бомбы, произошедший напротив нашего дома справа, я видел сам... в зеркале, висевшем на стене: яркая вспышка, сильный грохот, осколок бомбы на подоконнике, пробивший фанерную вставку в окне. От других взрывов нашу комнату защищал четырёхэтажный дом, стоявший напротив. В его подвале находилось бомбоубежище, но мы в нём прятались редко, так как оно было слабым, а артобстрелы были непредсказуемы. Нашему дому повезло: до июля 1942-го, когда мы были эвакуированы, ни бомба, ни снаряд в него не попали. От зажигалок спасать дом выходили на крышу жильцы, в том числе отец и дядя Миша. О авианалётах обычно неоднократно передавалось предупреждение по радио: «Граждане! Воздушная тревога!» Иногда, правда, оно запаздывало. Другим средством оповещения была визгливая сирена: мужчина выходил на средину улицы с механической установкой, крутил у неё какую-то ручку, и раздавались пронизывающие всю округу звуки, от низких до высоких и наоборот. Обычно при угрозе бомбёжки мы спускались на 1-й этаж и отсиживались под лестничным пролётом или в комнате «Красный уголок», где нас принимала заботливая дежурная. В напряжённом молчании мы слушали стук метронома из радиоприёмника как признак жизни города и ждали заветного объявления: «Отбой воздушной тревоги». Иногда в напряжённой тишине ожидания раздавался кратковременный визг бомбы, заставлявший в страхе сжаться, затем слышался взрыв и ощущалось потряхивание пола, стен и звук осыпающейся штукатурки. При этом все начинали гадать, где и как далеко взорвалась бомба.
Помню, всякий раз, когда мы спускались вниз, брали с собой документы, одеяла и мешочек засушенных впрок сухарей (пока они были). И ещё помню одно обстоятельство, благодаря которому, я думаю, в условиях жесточайшего длительного голода мы в большинстве своём смогли выжить. Мои трудолюбивые хозяйственные родители, когда поселились в домике под Ленинградом, постоянно держали домашнюю скотину: поросёнка, козу, кур. Я помню год, когда была выращена большая свинья. Я её с удовольствием подкармливал и очень был к ней по-детски привязан. Когда пришёл срок её заколоть, меня отвели к тёте, жившей по соседству через два дома. Когда я вернулся домой и увидел в сенях подвешенную к балке свою любимицу, со мной случилась истерика. Конечно, приготовленную из неё пищу я категорически не ел. Весной 1941 года отец приобрёл поросёнка и выращивал его до августа. Перед отъездом в Ленинград он его заколол. Обработал, посолил и поместил в небольшой чемоданчик с замком, ключ от которого держал при себе. Этот поросёнок оказался спасительным. Помню, отец иногда отрезал и давал нам по кусочку тощего сала. Сам он такой кусочек сосал, но не глотал по причине, видимо, желудочных болей, от которых он буквально корчился. Оставшееся от кусочка сала он кому-нибудь отдавал доесть. Пожалуй, всё было съедено до января.
Отец был спокойным, выдержанным человеком. Я никогда не слышал, чтобы он ругался или повышал голос. В памяти только один эпизод, когда он сорвался. Мы сидели за столом, он разливал нам по тарелкам какую-то жидкую баланду. Получив свою порцию, которая мне показалась меньше, чем у других, я молча насупился и прослезился. Увидев это, он повысил голос: «Чего ты нюни распустил, игрец тебя изломай?». «Ма-а-ло», - промямлил я. «Так и скажи, а слёз не лей», - закончил он и добавил мне в тарелку так называемого супа.
Он, безусловно, в хозяйственных делах был «мастером на все руки», выносливым, терпеливым, надёжным, мудрым человеком. По словам родственников, матери он завещал: «Береги себя, тогда и дети будут благополучны, а если тебя не станет, то и они погибнут». В начале блокады он сложил и приладил к камину кирпичную печь с конфорками, которая нас спасала от холода.
Будучи опытным и грамотным строителем, отец вместе с дядей Мишей нашёл возможность использовать в качестве дров какие-то доски, стропила и лишние части балок с чердака без ущерба для крыши дома. Для топки печи была использована также часть мебели. Когда печь разжигали, она кроме тепла давала возможность получить кипяток, что-то сварить, а также озаряло комнату светом, она всех оживляла и объединяла. При отсутствии электричества необходимое освещение получали от зажжённых лучин и свечей. Отец с Михаилом скручивали из жести трубки, в которые пропускали суровую нить и заливали расплавленный воск, собранный от сгоревших свечей. Конечно, часть воска сгорала, но остаток его вновь шёл в дело.
До весны 1942 года у нас умерли трое. Первой была Тоня, папина племянница 14 лет. Она заболела пневмонией, в больнице её не спасли. Пенициллина-то ещё не было! В январе от истощения умер дядя Миша - молодой (24 года), талантливый специалист по радио и телевидению. Он не дожил двух дней до эвакуации: семья бабушки была вывезена по ладожской Дороге жизни вместе с институтом, в котором училась её дочь Евдокия, моя крёстная. Михаил был положен в гроб, наскоро сколоченный моим отцом, и отвезён на санках в большой сарай, где складывали трупы. Папа умер в феврале или в марте и, завёрнутый в простыню и одеяло, был положен в том же сарае. Ему было всего лишь 36 лет. Я всё это помню смутно, наверное, потому, что был мал, да и чувства были притуплены, и острота восприятия этих трагических событий в тогдашних условиях отсутствовала. Когда пришла весна, я выходил на улицу и видел, как из сарая трупы грузили на открытую бортовую машину и куда-то отвозили. Видимо, на Пискарёвское кладбище. Помню, отец говорил, что главное - пережить зиму, потому что весной уже будет зелень, подножный корм. Увы, он до этого не дожил.
В марте, по-моему, открылась школа, где нас стали подкармливать. Не знаю, было это в счёт продовольственных карточек или нет. Но мне запомнился очень вкусный хлеб. Позже, когда открылось движение трамваев, мама, набравшись сил, ездила в район сгоревших Бадаевских продовольственных складов за «творогом». Так я теперь называю землю, которую там ленинградцы раскапывали и приносили домой в качестве пищи. Это была масса коричневого цвета, сладковато-кисловатая на вкус, хрустящая на зубах, как обычный (не сахарный!) песок. Конечно, есть её было нельзя и невозможно, но я ухитрялся её понемножку посасывать. Видимо это был обычный песок, пропитанный каким-то соком. Вскоре такие раскопки были пресечены милицией.
В апреле или в мае мы с мамой ходили в баню, открывшуюся неподалеку на ул. Братства, что напротив Сампсониевского собора. Помывочный зал, какого я позже никогда не видел, представлял собой, по моим детским понятиям, большое и высокое помещение с высоко расположенными с одной стороны окнами. В одном углу был установлен цилиндрический бак с горячей водой, подогреваемой дровяной топкой. Не помню, как наливали воду. Было много пара и недостаточно светло, хотя на улице был день. Мылись в основном женщины с детьми, но были и мужчины. Всё это меня очень впечатлило.
И ещё в чёткой памяти одно приятное событие Тихое летнее утро с ярким солнцем. Впервые в жизни я еду на трамвае. Стою на передней площадке вагона рядом с кондуктором и держу за руку сестру. Мне 8 лет, ей - около пяти. Я везу её в детский сад. Испытываю необыкновенный восторг! Жаль только, что ехать всего два квартала. Жизнь началась!
В июле 1942 года мы из Ленинграда были эвакуированы. При этом к нам присоединилась ещё одна семья дальних родственников, которая по составу и по возрасту матери и детей (девочка и мальчик) была аналогична нашей. Из дома до Финляндского вокзала нас везли на бортовой машине, до Ладожского озера - на поезде, по Ладоге - на катерах, а в дальнейшем - в двухосных товарных вагонах (теплушках) до места эвакуации в Татарской республике. Когда плыли по Ладожскому озеру, меня укачало, я заснул и не слышал, как нас бомбили и обстреливали. Помню, как нас всех осторожно выводили с катеров на пустынный берег озера и размещали в теплушках. Затем взрослых пригласили с кастрюлями, бидонами и прочей посудой на получение пищи. Запомнились мне какой-то суп, котлеты с макаронами и компот из сухофруктов. Я это до сих пор люблю и ем.
При раздаче пищи всех строго предупреждали, что нельзя резко набрасываться на еду, надо есть помаленьку, особенно вторые блюда. Но всё же, как ни ограничивали себя люди в приёме пищи, в дальнейшем животы у всех были расстроены и очень болели. Помню, как я корчился от боли во время движения и тряски вагона, и хотелось, чтобы поезд скорее остановился, а когда поезд стоял, то в надежде на облегчение боли трудно было дождаться, когда он вновь тронется. Запомнилась и такая картина: поезд останавливается, большинство людей вылезают из вагонов и «оседают» в придорожных кустах, ямах, канавах... Везли нас по какой-то северной дороге, через Кировскую область, в пути хорошо кормили и высадили в небольшом городке Куйбышеве Татарской автономной республики.
Разместили в каком-то Народном доме и несколько дней решали, что с нами делать. В это время пришлось немного поголодать и даже походить по домам, выпрашивая хлеб. Отчётливо помню, как татары, узнав, что мы из Ленинграда, нас, детей, очень жалели и отрезали по полкаравая. А набожные старушки, сидя на веранде за чаепитием, прежде чем подать ломтик хлеба, наставляли нас: «Надо просить: подайте милостыню Христа ради».
Для проживания нашим двум семьям в какой-то деревне был предоставлен бревенчатый дом (или половина), в котором мы жили до середины осени. Затем пришел вызов из Рязанской области от родственников, и мы поехали на родину родителей. Не без труда добрались до Казани, затем на колёсном пароходе по Волге и Оке до райцентра Шилово, а оттуда - на конской подводе до дома моего покойного деда в деревне Петровке. Там в это время жила сестра моего деда (отца мамы) тётя Лена с сыном Сашей (моим ровесником), бабушка без ноги, которую она потеряла после эвакуации из Ленинграда, вернувшийся с фронта без ноги дядя Саша 22-х лет. Полностью работоспособной среди нас была только тетя Лена, но она в связи с изнурительной работой в колхозе практически не имела времени для домашних дел. Основной груз этих дел лёг на нас с Сашей: мы пилили и кололи дрова, дёргали из колхозных стогов солому для печки, таскали воду из колодца, вскапывали и убирали огород, следили за курами и козой, пасли чужих свиней ради бутылки молока с хлебом. Мне, кроме того, приходилось ходить за лекарством для мамы в соседнюю деревню за 6 км к врачу-кардиологу. В общем, детство наше было трудовым, и не зря нас с Сашей пацаны обзывали рабами.
Надо сказать, что по приезде в деревню у меня, видимо, проявились последствия блокады: живот заболел и раздулся так, что меня деревенские ребята дразнили «бочкой». Правда, это уродство скоро прошло. Но была другая неприятность: очень плохо рос. В 15 лет после 7-го класса при поступлении в Ленинградское артиллерийское подготовительное училище (ЛАПУ) я имел рост 143 см, и был принят в училище благодаря похвальным грамотам за школьную учёбу. А максимального роста в 170 см я достиг только к 22 годам.
Летом 1945 года мы возвратились в Ленинград, где в прежней квартире продолжилась наша жизнь. Жили, трудно, впроголодь. Мама тяжело болела, но помогали родственники, и я был послушным помощником.