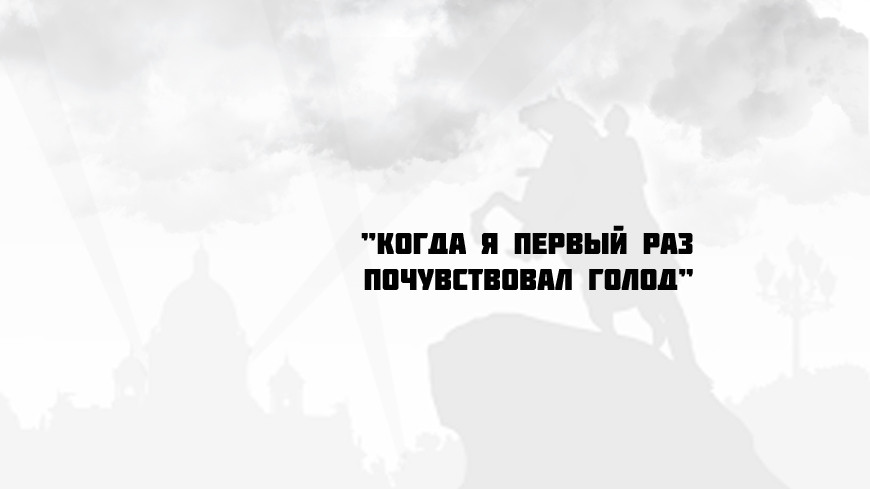Вспоминает Роберт Асеев, Электросталь
Моё четко осознанное воспоминание о войне относится к августу 1941 года, когда в детском саду под Смоленском, куда нас вывезли на летний отдых, нас осталось 5 человек - воспитательница, повар, девочка, ещё один мальчик и я. Мы на веранде рисовали танки, самолёты и смотрели, как далеко на низменности, горело и дымилось большое село или небольшой городок. Старшие бегали вокруг нас и причитали, почему не едут наши родители. Моя мать и мать мальчика приехали только утром, схватили нас, в чём мы были, воспитательница и повар схватили девочку, и все побежали через лес на станцию.
 На станции стоял паровоз и несколько вагонов-теплушек, все были набиты людьми, нас не хотели брать, но всё-таки распределили по составу, и поезд тронулся. Нам с матерью досталось место на паровозе на боковой площадке. Паровоз почему-то ехал вагонами вперёд, мы сидели в конце состава, и мне были хорошо видны в перелеске танки с коническими поручнями на башнях, которые я рисовал, и много солдат. Мать опоздала потому, что трудно было добираться от того места, где рыли окопы.
На станции стоял паровоз и несколько вагонов-теплушек, все были набиты людьми, нас не хотели брать, но всё-таки распределили по составу, и поезд тронулся. Нам с матерью досталось место на паровозе на боковой площадке. Паровоз почему-то ехал вагонами вперёд, мы сидели в конце состава, и мне были хорошо видны в перелеске танки с коническими поручнями на башнях, которые я рисовал, и много солдат. Мать опоздала потому, что трудно было добираться от того места, где рыли окопы.
Следующее яркое воспоминание о начале блокады - когда я первый раз почувствовал и запомнил голод. Полез в буфет, где обычно хранился хлеб, но там было пусто. Только за какой-то старой вазой нашел старый засохший обломок верхней корки черного хлеба. Было очень вкусно.
Хорошо помню ясный осенний день, желтую дубовую рощу, где отец и я собирали желуди. Мы были не первые, желудей было мало, мы разгребали желтую листву на земле и искали их, как грибы. Но всё же набрали и принесли домой. Я с интересом наблюдал, как отец размалывал их на старой ручной мельнице для кофе, а мать делала лепёшки. Пекли прямо на разогретой поверхности «буржуйки». Пробовали сами, мне и брату не давали, несмотря на мой дикий рёв. Мать рассказывала, что у них с отцом начались болезненные спазмы в желудке, и они их больше не ели.
Потом потекли однообразные холодные и голодные дни с вечерними делёжками хлеба: тарельчатые весы, моя норма с двумя-тремя маленькими довесочками, разделённая на две порции - вечернюю и утреннюю. Вместо чая - кипяток, благо мы жили рядом с парковой зоной, и можно было набрать хвороста и дров. Это потом в печку пошла мебель и старые подшивки газет и книги. Распорядок дня - рано утром кипяток с полупайкой хлеба, затем в одежде в кровать под одеяла - и до вечера. Делать ничего не хотелось, постепенно таяли силы, всё труднее становилось ходить и согреваться в постели, а буржуйку днём не топили, т.к. надо было экономить дрова.
Во время бомбёжек и обстрелов мы всем домом (пять семей) прятались в ДОТе, который построили на нашей цветочной клумбе на самой стрелке Крестовского острова. Один раз нас крепко тряхнуло, когда в скат ДОТа попала 50-килограммовая бомба. ДОТ не пострадал, и мы тоже. Но вообще наш район немцы бомбили мало, доставалось Каменному острову, где был полевой аэродром.
К концу ноября отец ослабел настолько, что не смог ходить на работу, а затем совсем слёг. Мы оставались с ним дома вдвоём. Мать и брат работали, сестра эвакуировалась с госпиталем на большую землю. Большим счастьем было, когда нам на всех дали килограмм пропитанного керосином сахарного песку. Мать долго кипятила сладкую воду и выпаривала керосин, а я всё торопил её.
К концу декабря отец ослабел совсем и за три дня до нового года умер. Хоронила его мать с братом без меня, как хоронили всех ленинградцев, на ближайшем кладбище.
В январе в Ленинграде начали организовывать круглосуточные детские сады и меня взяли туда. Распорядок работы этих детсадов - 5 суток в нём, на субботу и воскресенье - домой. Продукты на эти 2 дня выдавали сухим пайком. Эти продукты позволили матери и брату поддержать свои силы до весны, а я жил по обычным нормам. Весной стало легче - на проталинах полезла крапива, и мы регулярно ели крапивные щи, а потом и лопуховые.
В июле 1942 года нас эвакуировали из Ленинграда в соответствии с решением руководства города и фронта об эвакуации населения, не нужного для обороны города. Мать работала бухгалтером, брат хоть и работал токарем на снарядном заводе, но ему только что исполнилось 16 лет.
Эвакуировали нас по Ладоге. Вещей набралось на один узел - одежда. Всё, что было ценного, променяли на еду зимой. Три дня ждали, пока отправят.
Нас посадили поздно вечером на военный катер, он взял на буксир баржу с людьми, и караван из нескольких катеров с баржами на буксире пошёл к противоположному берегу Ладоги. На катере все свободные места были заняты людьми, мы сидели в углу за входом в машинное отделение. Над нами на площадке стоял зенитный пулемёт. В пути начался налёт на караван. Мать прижала нас к стенке и не давала смотреть, что творилось за бортом. Наш катер беда миновала, и мы добрались до эвакопункта на противоположном берегу.
Когда нас уже разместили по вагонам эшелона, работники эвакопункта приготовили для эвакуированных обильную еду - нам дали банку тушёнки, банку сгущенного молока, буханку настоящего хлеба и полный солдатский котелок пшенной каши, на которой был толстый слой топлёного масла. Руководствуясь лучшими чувствами к изголодавшимся людям, они не смогли оценить возможные последствия для пораженных дистрофией людей при переходе к нормальному питанию.
Моя мать это знала и решила эту проблему строго и просто: когда я сунулся с ложкой в котелок за кашей, получил хорошую затрещину, и охота к самостоятельности сразу пропала. Она слила масло, сняла пропитанный маслом верхний слой каши, положила нам с братом по одной ложке пустой каши и залила её кипятком. Этот супчик разрешила есть, такой же ела и сама. Ещё дала по кусочку хлеба, размером с привычные полпайки. Правда, это мы ели сначала по два, потом по три и по четыре раза в сутки во время всего пути, постепенно увеличивая порции.
Тем, кто не проявил такой осторожности, пришлось очень тяжело. У многих открылась кровавая диарея. Эшелон задержали с отправкой, наиболее тяжёлых больных сняли с поезда и отправили в госпитали и больницы. Остальным оказали медицинскую помощь, ещё раз объяснили, как надо питаться после такой голодовки, и эшелон направили по назначению в соответствии с пунктами распределения. Мы ехали в Поволжье, под Саратов.
То, что мы остались живы, это несомненная заслуга матери, её мудрости и воли.