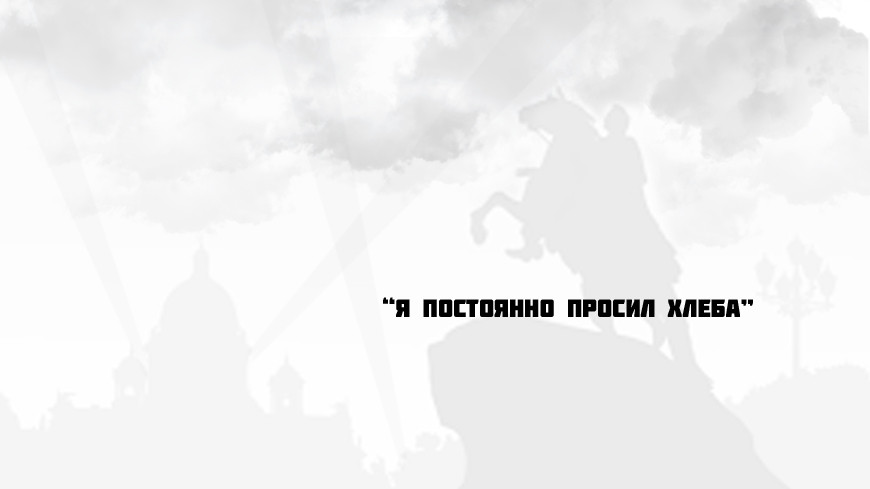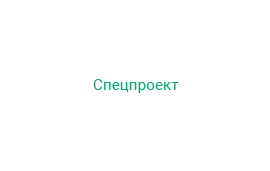Вспоминает Вадим Верковский, Балашиха
Родился в г. Ленинграде, где встретил начало войны. Весной 1942 года был эвакуирован с бабушкой по Ладожскому озеру в деревню Сугарово Тихвинского района Ленинградской области. Семья переезжала с места на место, поэтому Вадим Владимирович учился в разных школах. После окончания московской школы № 12 пошел работать в Краснопресненский ремонтно-строительный трест г. Москвы. В 1959 году поступил на юридический факультет Московского государственного университета. По семейным обстоятельствам после второго курса перевелся на вечернее отделение и работал на производственном авторемонтном заводе № 1.
В 1964 году Вадим Владимирович по комсомольской путевке был направлен на работу в отдел охраны общественного порядка Куйбышевского района г. Москвы. С 1982 года преподавал в школах милиции.
В 1966 году закончил учебу в МГУ, защитив диплом. В 1993 году переехал на местожительство в г. Балашиху. В последние годы преподавал право в различных высших учебных заведениях.
Верковский Вадим Владимирович – активный член Балашихинской районной общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда. Первый заместитель Председателя Правления. Занимается литературной деятельностью. Регулярно освещает в местной прессе мероприятия, проводимые организацией. Пишет стихи, участвует в литературных мероприятиях Балашихи и Реутова. Печатается в Балашихинской газете «Факт», литературном альманахе «Балашиха - голоса сердец» и других изданиях. Выступает со своими стихами перед ветеранами, пользуется огромной популярностью. Помогает ветеранам в решении юридических, социальных и других вопросов.
В 2006 году, в юбилей 65-ой годовщины открытия ледовой трассы по Ладожскому озеру, Верковскому В.В. за активную работу было вручено благодарственное письмо и памятный подарок от Балашихинского отделения партии «Единая Россия».
В январе 2008 года Верковский В.В. награжден почетным нагрудным знаком «Почетный ветеран Подмосковья». В сентябре 2008 года Управлением Культуры Администрации городского округа Балашиха Верковскому было вручено благодарственное письмо за активное сотрудничество с краеведческой библиотекой городского округа Балашиха и за творческую деятельность в ЛИТО «Метафора».
Невеселые воспоминания
С высоты своих сегодняшних 74 лет моя память обращается к четырёхлетнему мальчику, коим я был в военном 1943 году. Что же до других, более ранних воспоминаний, то они размылись или вовсе исчезли в силу непонятных причин, свойственных памяти стариков. Хотя и в детстве я подчас не мог понять, - какие картины из моей жизни относятся к реальности, а какие к сновидениям. Так я долгое время считал навязчивым повторяющимся сном такую картину: от оглушительного взрыва на улице вдребезги разлетается стекло, и в образовавшийся пустой оконный проём в диком испуге выпрыгивает на улицу кот. Впоследствии я узнал, что действительно в нашей ленинградской квартире жил сибирский кот Дэнди, пропавший во время блокады; наш дом случайно уцелел, а дома, стоявшие по соседству, пострадали от артобстрелов и бомбёжек.
К началу Великой отечественной войны мне исполнилось два года. Война застала мою маму в Одессе, и на всё блокадное лихолетье разлучила меня с ней. Папа в первые дни войны добровольцем ушёл на фронт, и я оставался с бабушкой Валентиной Николаевной (мамой папы). Она отказалась эвакуироваться, считая, как и большинство советских людей, - война должна вскоре закончиться победоносным разгромом Германии Красной армией. Её единственный сын Владимир (мой папа), был направлен на Карельский фронт, и она боялась, уехав из Ленинграда, потерять с ним связь, да и не исключала возможности отправлять ему продовольственные посылки. По рассказам мамы и других людей, знавших её, бабушка обладала исключительной душевностью, добротой и редким благородством. Как известно, дворянское происхождение после 1917 года зачастую являлось основанием для ареста, а то и расстрела по инспирированным политическим обвинениям, поэтому бабушка скрывала его, уничтожив письма и фотографии, свидетельствующие о её родословной.
30 августа немцы заняли станцию Мгу, полностью заблокировав железнодорожную связь со страной. В тот же день, прорвавшись к Неве и захватив Ивановское, враг перерезал последнюю, идущую из Ленинграда шоссейную дорогу. Подвоз продовольствия, топлива и боеприпасов в город по суше стал невозможным. Единственным возможным путём их подвоза в осаждённый город оставалась водно-ледовая трасса, проложенная по Ладожскому озеру, названная впоследствии ленинградцами «Дорогой Жизни». Однако, перевоз по ней грузов в условиях осенней штормовой погоды и налётах немецкой авиации не позволяли обеспечить потребности в продовольствии трёх миллионов жителей Ленинграда и его защитников. Начались массовые заболевания людей цингой, дистрофией, повлёкшие смерть десятков тысяч людей.
Трагедию ленинградцев усугубляли наступившие с ноября сильнейшие морозы: замёрзли водопровод и канализация, не стало электричества, прекратилось движение общественного транспорта. Голод и ужасающий холод в домах при отсутствии топлива; бомбёжки и артиллерийский обстрел сводили людей с ума. Сохранившиеся кадры документальной хроники ленинградской блокады лишь в малой степени показывают нам трагедию непокорённого города и его жителей. Леденящие душу кинодокументы, которые могли бы лишь порадовать гитлеровцев и усугубить ужас обречённости у наших людей, вырезались военной цензурой.
Голодная мучительная смерть в первую очередь настигала стариков и детей. Женщины и девочки, в силу особенности их организма, оказались более жизнестойкими, и поэтому смертность среди мужчин и мальчишек была более распространена. Из многочисленных послевоенных воспоминаний блокадников хорошо известно, на какие ухищрения им приходилось идти, чтобы как-то заглушить постоянно гнетущее мучительное чувство голода: варить кожаные ремни и столярный клей, соскабливать с обоев остатки крахмала, не брезговать машинным маслом и сладкой землёй, в которой находились остатки расплавленного сахара после бомбёжки Бадаевских кладов. Сейчас уже не является секретом то, что блокада порождала каннибализм. Моя знакомая ленинградка рассказывала, как её отец, доведённый до отчаяния, предложил матери: «Давай съедим дочку, у нас ведь есть сын, а после войны ты ещё родишь девочку». И в действительности в некоторых многодетных семьях такая практика существовала.
Можно представить какие душевные страдания испытывала моя бабушка с её нежным жертвенным сердцем при виде исхудавшего, плачущего двухлетнего внука, постоянно просившего: «Баба, дай поесть».
Осознавая, что вдвоём нам осталось жить недолго, бабушка во благо спасения внука решила пожертвовать собой, отдавая свой скудный паёк мне. В начале февраля 1941 года бабушка умерла. Ей было 53 года. Тётя Лиза, сестра мамы, служившая медицинской сестрой в военном госпитале, положила бабушку на доску - так поступали тысячи родственников покойных (за неимением санок), - и отвезла её на Фонтанку, где уже лежали сложенные в штабеля десятки покойников.
Лиза попросила Раису Аркадьевну, нашу соседку по коммунальной квартире, присматривать за мной, пообещав ей регулярно навещать меня. Дважды в неделю Лиза отпрашивалась у начальника госпиталя навестить меня и покормить, ухитрившись что-то ещё оставить из съестного Раисе Аркадьевне с тем, чтобы она покормила меня в дни её (Лизы) отсутствия.
К весне 1942 года у меня уже развилась классическая блокадная дистрофия, и я лежал в постели, так как ноги не держали меня.
«Наш госпиталь должен быть был передислоцироваться из Ленинграда на другой фронт, - рассказывала после войны тётя Лиза, - я пришла к тебе перед отъездом и покормила тебя, спросив, давала ли тебе поесть Раиса Аркадьевна, которой я в предыдущий свой приход оставила для тебя немного супа. Ты ответил – нет. Не знаю, по каким признакам ты, как и я понял, что мы больше не увидимся, и горько заплакал, прося: «Тётя Лиза, не уходи, тётя Лиза, останься»… Выйдя из квартиры, я увидела стоявшего перед дверью майора интендантской службы.
– Здесь живут Верковские? – спросил он меня. Услышав мой утвердительный ответ, пояснил, что приехал за бабушкой и внуком.
- Бабушки нет, она умерла, - сказала я, - а внук здесь, можете забирать его. А куда вы его собираетесь везти?
- В Сугарово, к бабушке, - пояснил майор. Из последующего его рассказа стало известно, что он с тремя сослуживцами по дороге в Ленинград остановился на ночлег в избе, где проживала моя другая бабушка, многодетная крестьянка Лютова Евдокия Никифоровна (мать моей мамы). Узнав от военных, что они отправляются за своими семьями в Ленинград, и на обратном пути намерены снова остановиться у неё, бабушка спросила: «Не могли бы вы заехать в Ленинграде на улицу Красной конницы и взять там моего внука с бабушкой, если они ещё живы, и привезти ко мне».
- Даже если они ещё живы, мы не можем гарантировать, что привезём их живыми, - ответил майор, - сами видите, мы едем на грузовике, ехать надо по Ладожскому озеру. Дорога трудная, неблизкая, постоянно бомбится, а они наверняка ослаблены от голода.
- Ну что ж, - продолжала настаивать бабушка, - если они умрут на машине, то и оставьте их на ней, а если удастся их довезти, то я дам вам мешок картошки.
Таким образом, Лиза, уходя от меня, столкнулась лоб в лоб с майором Уманским, приехавшим по просьбе деревенской бабушки.
- Собирайтесь, поедете с нами, будете сопровождать ребёнка, - распорядился Уманский, обратившись к Лизе.
- Я бы поехала, но меня не отпустит начальник госпиталя, - ответила Лиза, - разве может Вам удастся уговорить его отпустить меня.
Однако, все доводы майора о том, что без сопровождения Лизы ребёнок, находившийся в критическом состоянии, по дороге погибнет, начальник госпиталя, привыкший к тысячам смертям детей и взрослых, отвечал: «Вам ли не знать, насколько серьёзно положение на соседнем фронте, куда мы передислоцироваться должны в эти дни? Положение там с поступающими ранеными катастрофическое, да и сейчас нагрузка на медперсонал запредельная. Так что Вы должны меня понять – при всём уважении к вам, я не могу и не имею права отпустить Лютову (Лизу).
В начале мая суровая военная зима сдалась, наконец, долгожданной весне. Жаркое солнышко окончательно растопило остатки снега на открытых полянах и лугах, пригрело на Ладожском озере лёд, и накрыло его водой. Грузовик по оси в воде, натужно медленно преодолевал необъятное водное пространство. В кузове его сидели военные с жёнами и детьми, покидавшие блокадный город. Уманский, пока светило солнце, тревожно всматривался в небо: не покажутся ли «юнкерсы», охотившиеся в это время за нашими транспортными караванами. Однако, вскоре густая облачная хмарь прикрыла голубизну неба, и лёгкий туман опустился на озеро, спасая пассажиров полуторки от немецких стервятников.
Среди пассажиров лежал завёрнутый в тёплое стёганое одеяло я, достигший к тому времени трёх лет. Добрые милосердные русские женщины, ухаживая за своими истощёнными детьми, вы по-матерински уделяли внимание мне, как родному сыну: кормили терпеливо с ложечки, а, когда меня пронимал понос, выбрасывали грязные вшивые пелёнки-тряпки, обтирали меня насухо, обкладывая новыми чистыми тряпками, пока везли в деревню к бабушке.
- Кого вы мне привезли? – в сердцах воскликнула бабушка, взглянув на маленький живой скелетик, вынутый из одеяла. – Это не Дима, это не мой внук!
- Мама, посмотри – это одеяло ты стегала ещё до войны сама для Димочки, - воскликнула четырнадцатилетняя дочь бабушки Оля. Бабушка, внимательно вглядевшись в меня, зарыдав, запричитала, - Дима, внучок, что же это делают немцы-гады с людьми».
На радостях она хотела накормить меня до отвала неприхотливой крестьянской пищей, состоявшей из квашеной капусты и картошки с молоком. Уманский урезонивал её, втолковывая, что дитя в течение первых дней нужно кормить из ложечки помаленьку, как грудного ребёнка, иначе она обречёт меня на мучительную смерть от заворота кишок.
Бабушка старательно исполняла все наставления моего уехавшего спасителя, несмотря на то, что я всё время просил: «Дайте хлеба». Но однажды, когда бабушка была на работе, а я оставался под присмотром её младших дочек-подростков, их сердобольные сердца не выдержали моих стенаний, и они дали мне большой ломоть хлеба. С жадностью съев его, я стал от приступов острой боли в животе валяться на полу. Не знаю, чтобы произошло со мной дальше, если бы в этот момент не вернулась с работы бабушка. Без слов всё поняв, она, прежде всего, применила известные ей средства, позволившие освободиться моему желудку от пищи, и всю ночь хлопотала возле меня, снимая острую боль.
Безжалостная ленинградская блокада, сколько жизней взрослых и детей, уехавших из Ленинграда, продолжала губить ты в тылу, когда изголодавшиеся люди, набрасываясь на еду, умирали, корчась в муках от её несварения? Тысячи эвакуированных взрослых и детей, организм которых уже был не в силах справиться с катастрофическими последствиями дистрофии, не смогли преодолеть её и умирали в эвакуации.
С того времени деревня Сугарово, расположенная в 25-ти километрах от старинного города Тихвина, стала на шесть лет мне малой родиной, а многодетная бабушка крестьянка Евдокия Никифоровна заменила мне мать и отца. Жизнь в русской деревне, тем более в многодетной крестьянской семье, никогда не была сытой ни в мирное довоенное время, ни, тем более, в военные годы (Ленинградская область оставалась фронтовой до 28 января 1944 года, то есть до полного освобождения Ленинграда от блокады).
После блокады две моих тётушки – дочери бабушки, уехали на учёбу в Ленинград. Их приезд в деревню был мне праздником – они привозили из города белый хлеб, мы называли его ситным, и я набрасывался на него.
Перед отъездом в город они иногда подшучивали надо мной: «Димка, поедешь с нами в Ленинград?». А я каждый раз разражался рыданием, крича: «Я не хочу в Ленинград…», - и убегал из дома, прячась на сеновале в сарае.